- Accueil
- > La revue
- > Numéro 4
- > Imaginaire littéraire franco-slave
- > «Русский роман» на французском языке: ипостаси жанра
«Русский роман» на французском языке: ипостаси жанра
Le « roman russe » en français : les avatars d’un genre
Par Hélène Menegaldo
Publication en ligne le 18 février 2015
Résumé
В книге «Русский роман», опубликованной в 1886 году, Мельхиор де Вогюэ представлял панораму великой русской литературы и приобщал читателей к загадкам русской души. На французских писателей Толстой и Достоевский оказали глубокое влияние, способствуя обновлению романного жанра. А славянская душа воплотилась в героинях Жозефа Кесселя, Пьера Бенуа, Франсиса Карко и многих других. «Путешествие по земле русской», жанр, распространенный с XVIII века, возрождается в стране советов, олицетворяющей для одних рай а для других — ад, в то время как группа французских пролетарских писателей упражняется в соцреализме.
En 1886, le Roman russe de Melchior de Vogüé dresse un panorama de la grande littérature russe et initie le public aux mystères de l’âme slave. Tolstoï et Dostoïevski exerceront une influence durable sur les écrivains français et contribueront au renouvellement du genre romanesque. Quant à l’âme slave, elle s’incarnera dans les héroïnes de Joseph Kessel, Pierre Benoît, Francis Carco et beaucoup d’autres. Cependant, le « voyage en Russie », genre pratiqué depuis le XVIIIe siècle, renaît au pays des soviets, paradis pour les uns, enfer pour les autres, tandis qu’un groupe d’écrivains prolétariens français adopte le réalisme socialiste.
Mots-Clés
Table des matières
Article au format PDF
«Русский роман» на французском языке: ипостаси жанра (version PDF) (application/pdf – 1,2M)
Texte intégral
Introduction
1В 2005-ом году вышла книга Эмманюэля Каррера, заслужившая широкий резонанс – Un roman russe, то есть «мой вариант русского романа», «моя жизнь, как русский роман». Два года спустя, Карреру возразил Фредерик Бегбедер в своём «Французском романе»: коренному французу, родившемуся в «золотом гетто» богатого пригорода Парижа Нейи, также знакомы душевный недуг и житейские бедствия. Что подразумевает: нечего ссылаться на русские корни и русскую истерику, унаследованную от дедушки.
2В этой полемике прозвучал как бы отголосок той, которая разразилась после выхода в свет знаменитой книги Мельхиора де Вогюэ, «Русский Роман». Бывший секретарь французского посольствав России представлял в ней панораму великой русской литературы и приобщал читателей к загадкам русской души, чем положил начало «русской моде» во французской литературе. В этом увлечении писатель-националист Морис Баррес видел проявление мерзкого снобизма, а в окружении Шарля Морраса распространялась мысль, что «французской литературе угрожают чужеземцы».
3Вопреки этим опасениям, полился мощный поток повестей и романов на «русскую тему». Расцвет этого нового во французской беллетристике жанра «Русского романа» выпал именно на межвоенный период, совпал со звёздным часом «Русского Парижа». Широкий спектр этой продукции идёт от развлекательных романов, путевых заметок, подражаний русским писателям до соцреализма на французский лад. Данная статья — попытка представить генеалогию жанра а также его развитие и разновидности, и проследить, в какой мере отразилась в этой продукции жизнь Русского Парижа тех лет.
1. Откуда есть пошёл русский роман во французской беллетристике
1. 1. Эжен Мельхиор де Вогюэ и его предтечи
4« Русский Роман» Эжена Мельхиора де Вогюэ, женатого на дочери генерала Анненкова, вышел в 1886 г. и сразу заслужил огромный успех: за несколько дней разошлись все экземпляры «Войны и Мира», до того пылившиеся в книжных магазинах, произведения русских писателей стали усердно переводиться и публиковаться. Чем объяснить такой успех? Де Вогюэ ставил перед собой две цели: способствовать франко-русскому сближению и показать, каким должен быть «настоящий» роман, далёкий как от бесплодного эстетизма, так и от соблазна голого натурализма. Благодаря своим романистам, заявляет автор, Россия впервые опередила Запад. Гоголь олицетворяет «реалистическую и национальную эволюцию» романа, Достоевский — это «религия сострадания», а Толстой — проповедник «нигилизма и мистицизма».
5Оценивая книгу, критик Виктор Жиро утверждал, что она открыла французам «огромный, дотоле неведомый мир нравов, мыслей и чувств», что не совсем верно: Тургенев, постоянный гость Франции, успешно пропагандировал русскую литературу. Друг его, Проспер Мериме, переводил Пушкина («Пиковую Даму» в 1849 г.) и Гоголя, писал очерки о Пушкине, Гоголе и самом Тургеневе. Сам Мериме, по выражению одного из современников, «духовно эмигрировал в Россию и там обосновался на четверть века»; и, как известно, к концу жизни Бальзак мечтал стать русским.
6 К концу 1860-ых годов произведения Пушкина были уже довольно хорошо известны во Франции, «Записки охотника» вышли в свет в переводе в 1854 г., переводами с русского также увлекались Луи Виардо и Ксавье Мармье. Детская литеретура как жанр зародилась с появления «Розовой серии», созданной специально для графини де Сегюр, подарившей читателям генерала Дураки и картины русских нравов. Вслед за её Софи появилась Маруся, героиня одноименной повести, написанной под псевдонимом издателем Жюля Верна, Этцелем, вдохновившимся повестью украинской писательницы Марко Вовчок, «Казачки»; ее перевел Мериме. Затем появилось «Детство Кати», нравоучительный роман, представленный как перевод с русского автобиографии автора, и многие другие.
7Успехом романа Жюля Верна, «Мишель Строгов», объясняется зарождение развлекательной литературы для юношества «на русские темы»: «Царским послом» Капитана Данрита в детстве зачитывался, к примеру, Поль Моран, мастер утончённой прозы, где изобилуют русские мотивы и герои.
8Если освободительное влияние русской литературы ставится в заслугу именно де Вогюэ, это объясняется тем, что книга бывшего посла совпала с глубоким кризисом романа, когда многие вообще сомневались в жизнеспособности жанра: русский «идеализм» — это панацея против французского реализма. Русский роман призван «лечить» французскую прозу. Причём автор пишет занимательно, умеет приблизить «заморских» писателей к французским читателям: «Толстого выделяет незамысловатое величие Руссо, Достоевского — трагичная неровность характеров, как у Мийе, а Тургенев столь же грациозен, как Коро.»
9Де Вогюэ подчёркивает значение исторического прошлого России и её нравов для понимания её литературы :
Она (земля русская) скорее напоминает задворки первобытного хаоса, к которым Создатель просто забыл приложить свою десницу. (…) Но, может быть, это и есть та благодатная почва, на которой только и можно ощутить смутное дыхание чего-то того, чему еще не дали названия, но что хранят в себе русские сердце и душа. И не здесь ли источник тех удивительных духовных сил этой земли, расцвета ее литературы и искусстваi.
1. 2. Россия как другой
10Этот текст можно считать программным: утончённому, изнеженному, слишком интеллектуальному Западу не хватает той варварской жизненной энергии, того необузданного порыва, которым в изобилии располагают русские — эти полуазиаты, хотя и христиане. Тут и Россия, как другой, и уже укоренившиеся представления о её жителях: Скифы, азиаты, заражённые татарской кровью,— которые де Вогюэ, несомненно, нашёл уже готовыми у маркиза де Кюстина или Жюля Мишле, называвшего русских «кочевниками грязного и дикого Севера». Итак, призыв к обновлению романа и поискам новых форм соседствует с восточными мотивами, с «русской клюквой».
11«Русский роман преобразовал роман французский», — пишет в 1893г. французский романист ЭдуарРод. Одни беллетристы пытались перенять гуманизм и человеколюбие предложенных им моделей, расширить рамки своих повествованиий до размеров «эпического романа» à laTolstoï, другие же размышляли над «загадочной русской душой»: сам де Вогюэ выпустил в 1893 г. роман «Русские сердца» и серию повестей на русские темы («Зимниерассказы», 1885, «Дядя Федя», «Шинель Иосифа Оленина» и др.) а также очерки, посвящённые Владимиру Соловьёву и Горькому. В книге «Мертвыерассказывают (сцены парламентской жизни)» (1899), сердцем и судьбой главного героя играют две женщины — русская княгиня и актриса-еврейка, сильно напоминающая Сару Бернар, — две роковые женщины, представительницы иноземных племён, чуждые французскому народу. И здесь заглушённо заговорил французский национализм, в основе которого лежит боязнь отрыва от корней, отвержение от космополитических влияний.
12Но вскоре Россия всё же приблизилась к французской публике: русскую классику инсценирует и воплощает на сцене Жак Руше, и вслед за ним – актёр и режиссёр Жак Антуан. Парижской публике представляют «Власть тьмы» (1888), «Ревизора» (1898), «На дне» (1905), «Анну Каренину» (1907), «Крейцереву сонату» (1910), «Братьев Карамазовых» (1911). Последним спектаклем в этй череде русскиъ премьер был «Вечный муж» Достоевского в театре Антуана.
2. Чужеземные ростки на французской земле
2. 1. Толстой и/или Достоевский
13Де Вогюэ мы обязаны ставшим расхожим противопоставлением «Толстой и/или Достоевский», которое, так сказать, «узаконил» Мережковский в своей книге, вышедшей на французском языке в 1903 году, и позже подхватил Лев Шестов в «Откровениях смерти. Достоевский-Толстой», опубликованной в 1923 году по-французски в переводе Бориса Шлецера. «Русский роман» де Вогюэ определил выбор читающей публики, оформил её литературные вкусы. Ещё в 1930 году, подводя итоги Франко-русским встречам, Александр Салтыков замечает: «[… разговоры свелись, главным образом к беседам о Достоевском и Толстомii.» А Юрий Фельзен уточняет: «Французы знают лишь немногих русских писателей — Толстого, Достоевского, Тургенева, некоторые ещё Гоголя и Чехова, зато знают их основательно, чрезвычайно любят и страстно о них спорятiii».
14Эта пара великих писателей заслонила всех других. Лишь в 1921 году Чехов, в свою очередь, стал любимцем французской публики, когда Жорж Питоев поставил на парижской сцене «Дядю Ваню». За первой пьесой с неизменным успехом шли потом «Чайка» (1922) и «Тры Сестры» (1928).
15Многие французские писатели буквально болели Достоевским и Толстым. Шарль-Луи Филипп, незаслуженно позабытый автор «Бюбю с Монпарнаса», боготворил обоих писателей, чьи портреты вывесил в своей убогой комнатушке. В пору их открытия оба «великих русских» воспринимались одинаково, как представители «большой формы» эпического романа с многочисленными действующими лицами и сложной интригой, хотя Достоевский всё же казался слишком «диким», неотёсанным, чуждым галльскому картезианству и здравому смыслу: не зря де Вогюэ отзывался о его героях, как о потенциальных пациентах знаменитого психиатра Шарко. Первое место вскоре занял Толстой, в котором Анатоль Франс признавал своего учителя. Однако после смерти писателя к нему отмечается некоторое охлаждение: Толстой-моралист уступает автору «Войны и Мира» и «Анны Карениной», а Толстой-драматург вовсе слаб, заявляет критика после появления « Живого трупа » и других посмертных произведений писателя.
16Эстетов также шокирует отказ от эстетического начала в пользу этического. Поль Бурже, известный тогда отец «романа-идей», подчёркивает, что романы Толстого лишены всякой композиции, нет в них ни начала, ни конца. Это ещё сырой и бесформенный материал. Разразилась полемика, в которой приняли участие Ромен Роллан и критик Альбер Тибоде, доказывающие органическую цельность и искусную, мастерски замаскированную композицию шедевров Толстого. Итак, писателей-авангардистов в первую очередь привлекает романная техника, в то время как писатели более консервативного толка ставят акцент на нравстенную сторону творчества Толстого, на его учение, не замечая при том его бунтарства и своеобразного анархизма.
17Какие же французские писатели пошли по стопам яснополянского отшельника? В первую очередь, конечно, Роже Мартен дю Гар и Ромен Роллан. Автора многотомной эпопеи «Семья Тибо» с русским писателем сближает установка на реализм и стремление к созданию монументального произведения, где на фоне исторических потрясений отчётливо вырисовываются отдельные судьбы. Однако толстовство чуждо Мартену дю Гару и, по сравнению с Толстым, его беллетристика выглядит вялой. Его собрат Ромен Роллан переписывался с Толстым и посвятил ему исследование, «Жизнь Толстого». Его роман-эпопея, десятитомный «Жан Кристоф», склоняется к «роману-идей» и отличается банальным стилем, что не волновало писателя, решившего «посвятить жизнь благу людей и упорствовать в поиске истины».
18Хочется ещё процитировать следующие слова Татьяны Балашовой о Жан-Ришаре Блоке: « Идеал демократического искусства писатель воспринял от Льва Толстого, а ‘Жорес, Роллан, Пеги перевели его нам на французский язык’, говорил Блокiv». Однако попытки сделать из Толстого писателя-демократа не удались, французская публика по-прежнему увлекалась Анной Карениной в многочисленных её воплощениях на экране, и французская литература так и не родила местного Льва Толстого.
2. 2. Французское наследие Достоевского
19На своём личном примере литературный критик Станислав Фюме убедительно изложил причины перемены к Толстому: «Да, Толстой ставит мучительные вопросы. Но он ставит их с меньшей мучительностью и тревогою, чем Достоевский. Последний — проникновеннее, богаче, интуитивнее, умнее, страшнее, чем «добрый» Толстой», который из самой любви делает обязанность. Требование транцендентной истины должно неминуемо отвратить нас от Толстогоv», поясняет Фюме.
20Итак, после 1914 года на первый план выступает Достоевский, в творчестве которого одни выделяют «религию сострадания», тему «униженных и оскорбленных», вдохновившую, например, Шарля-Луи Филиппа: героиня его «Бюбю с Монпарнаса» — это Соня Мармеладова на парижском дне. Других привлекает знаток подсознательных глубин человеческой психеи, автор «Братьев Карамазовых» и «Записок из подполья»: «Полуночную исповедь» Жоржа Дюамеля можно считать удачной попыткой воссоздать аналогон «Записок» в ином социально-культурном контексте. Многие видят в Достоевском пророка, предсказавшего русскую революцию. Уже в 1919 году Ж. Кессель пишет «Большевизм сквозь призму Достоевского», Жан Шюзвиль возвращается к теме в 1927 году с «Одним пророчеством Достоевского», перу Поля Морана принадлежит очерк «Русская Европа, которую пророчил Достоевский».
21Больше других привлекает писателей герой «Преступления и наказания». Герои романов Эмманюэля Бова (Бобовникова), «Некий Раскольников», и Андре Бэклера, «Злая участь» (1938), олицетворяют разные ипостаси Раскольникова и являют новый литературный тип анти героя, предвестника главных действующих лиц «Тошноты» Жана-Поля Сартра и «Постороннего» Альбера Камю. О литературном успехе Раскольникова ещё свидетельствует, среди прочих, художник Вламенк, описавший в романе «Души манекенш» своего русского знакомого, «настоящего героя Достоевского», попавшего в тюрьму после неудачной попытки убить им же ограбленную старую деву.
22Вспомним, что от Достоевского также идёт литература «потока сознания», нашедшая яркое воплощение в творчестве Натали Саррот. Представительница «нового романа» училась у Достоевского и Гоголя. «Записки из подполья», утверждает Н. Саррот, «являются вершиной его творчества и в то же время, его крайним пределом, последней чертой». Творчество Достоевского представляет «и по сей день живительный источник поисков и новых приёмов мастерства, таящем в себе так много обещанийvi…».
23Однако любители острых ощущений, склонные толковать о «русской эпилепсии», зачитывались «Зелёным попугаем» принцессы Бибеско и прочей беллетристикой, где процветала достоевщина на французский лад.
3. Золотая жила русской экзотики
3. 1. Русская экзотика
24В конце Х1Х века увлечение Востоком начинает угасать. Благодаря заключению франко-русского союза и с лёгкой руки Мельхиора де Вогюэ массовую литературу отныне населяют русские персонажи. Образ России, заимствованный у «знатоков земли русской», путешественников и журналистов или у художников-декораторов дягилевской антрепризы, — служит декорацией, удобным фоном для описания невероятных приключений героев. Большим успехом пользуется «экзотические» романы на русскую тему Анри Гревиля: «Княжна Ожерова», «Русская скрипка», «Наследство Ксении» — всего больше десяти произведений, отрывавших французской публике загадки «русской души». И вскоре Арсен Люпен, «джентльмен-грабитель», знаменитый герой романов Мориса Леблана, будет совершать свои благородные преступления под личиной русского князя Сернина в романе «813».
25После 1905 года реальная жизнь Российской империи всё больше напоминает захватывающий роман. Будущий мастер детективной прозы, Гастон Леру, спецкорреспондент газеты «Матен» в России в 1906-1907 годах, описал события Первой русской революции в очерках а позже, в 1912 году, отправил по своим стопам своего двойника, репортёра-сыщика Жозефа Рультабиля, в детективе «Рультабиль у бывшего царя». Блез Сендрар, в то время обучавшийся коммерции в Петербурге у соотечественника-часовщика (он был швейцарцем), стал свидетелем тех же волнений, которых впоследствии воскресил в романе «Мораважин» : знание круга террористов Сандрар заимствовал у Савинкова, знакомого по монпарнаским кафе. Роман знаменитого эсера — «То, чего не было » — рассказ о неудавшемся московском восстании 1905 года – вышел в Париже в переводе в 1921 году.
3. 2. К расцвету публицистической прозы
26Придворные интриги, таинственное убийство Григория Распутина предоставляют романистам богатый и увлекательный материал. Мемуары князя-убийцы Феликса Юсупова будут иметь огромный успех у французских читателей, как и книга Жозефа Кесселя « Слепые Короли » на эту же тему, опубликованная позднее, в 1925 году. Затем революционные события 1917 года становятся главной темой репортажей и воспоминаний : Луи де Робиен, посол Франции, возвращается из России с дневником, в котором он превосходно запечатлел конвульсии, сотрясающие страну. В 1919 году младший лейтенант Кессель прибывает во Владивосток, чтобы выполнить межсоюзническую миссию. О жестокости и насилии, с которыми он здесь столкнётся, он сначала напишет репортаж, а затем биографическую повесть « Сибирские Ночи », впоследствии переименнованную в « Нагайку ». К этому периоду он ещё вернётся в последней, возможно самой удачной повести, « Дикие времена ». Другой его собрат, спецкорреспондент Клод Ане, автор повести « Ариана. Русская девушка » и трёхтомника « Хроника 1917-1920 годов », воссоздал атмосферу, царившую тогда в Петрограде, в романе « Землетрясение ». А пресс-атташе Серж де Шессен под впечатлением увиденного в России написал « Русский Апокалипсис » и « В стране красного террора ».
27Заметим, что именно в этот период стираются границы между репортерским очерком и беллетристикой. Жозеф Кессель желал, чтобы репортаж читался как « реальный приключенческий роман ». Живой факт куда интереснее вымысла, сама жизнь в изобилии предлагает материал, который стоит лишь оформить. Весь вопрос, конечно, в оформлении : в первоначальном выборе сюжета, в отборе фактов, в выборе наблюдательской и повествовательской позиций… Правда – или правдоподобность романной иллюзии ? Очеркисту, работающему на этой зыбкой границе, с реальностью всё же приходится считаться. Зато такие беллетристы, как Пьер Мак-Орлан или Жозеф Дельтей в повестях « Эльза-кавалеристка » и « На берегах Амура» о реалиях вовсе не заботятся, придумывая замысловатые сюжеты с кровожадными русскими героинями и невероятными перипетиями. Свободный полёт фантазии, необычное построение действия, экспрессивность выражений — вот что им позволяет « роман на русскую тему ». Обновление романа идёт здесь по линии отказа от реализма и поисков новых средств выражения, в стремлении к карнавальному преображению действительности.
4. Кривые зеркала: жизнь русского Парижа во французской беллетристике
4. 1. Жизнь русских беженцев, как роман
28«Всё отличало дореволюционную эмиграцию от белой, вспоминает Илья Эренбург […]. Белые пооткрывали рестораны «Боярский теремок» или «Тройка»; одни были владельцами трактиров, другие подавали кушанья, третьи танцевали лезгинку или камаринскую, чтобы позабавить французовvii.» Автор этих строк умышленно упрощает картину «русского Парижа», сводя её к тем же стереотипам, которые насаждали его французские собратья: «белый русский» и по сей день ассоциируется с избитым (стёртым) русским фольклором, с цыганским праздником и ночными кабаре, которым Жозеф Кессель, завсегдатай ночного Пигаля, посвятил много вдохновенных страниц в книгах «Княжеские ночи» и «Монмартрские ночи», где «князья пьянствуют в обнимку с конокрадами», джигиты дерутся с цыганами, а «светлоглазые и бледнокожие женщины, наряжённые в яркое тряпьё», воплощают для посетителей «русскую красоту».
29Не одного Кесселя привлекает мотив деклассированной, падшей русской женщины. Мастер развлекательного романа, Пьер Бенуа, выбирает русских героинь для книги «Кенигсмарк» и новеллы «При полуночном солнце». Эпиграф ко второй новелле он заимствует у Альфреда де Виньи (поэма «Ванда»),чтобы подчеркнуть деклассированность «всё потерявших эмигрантов»:
30«Княгиня в прошлом, кто она теперь?
31Любая перед ней закрыта дверь…»
32Надо однако отдать должное П. Бенуа, сумевшего в повести «Всадник №6» дать правдивую картину быта и будней тех казаков-джигитов, которыми восхищались парижане в цирке «Бюффало» во время Выставки Декоративных Искусств 1925 года.
33В книге «Верочка-иностранка, или любовь к несчастью», Франсис Карко выводит русский полусвет, где женщины продаются русским же аферистам или сутенерам ради лёгкой жизни, а кокаин помогает заглушить голос совести и избавиться от ностальгических воспоминаний. Повесть даёт утрированное представление об эмигрантской среде: «белые русские» — бывшие князя и продажные княгини, нюхают кокаин, ведут праздную и беспутную жизнь, кончают жизнь самоубийством и… заражают своей истерикой и «эпилепсией » здравомыслящих французов. «Русская душа жаждет страданий … и нет для неё желаннее того, чего ей не хватает», а « русский народ всегда преклонялся перед силой, она ему необходима» — в этих сентенциях выражается знание русских, которое Карко накопил, общаясь со знатными гостями «Русского домика» госпожи Токарёвой. Этот опыт всё же меняет взгляд повествователя на окружающую действительность, которая теперь отрывается ему через призму восприятия эмигранта, позволяя писателю дать остранённое представление французского окружения героев. Танцовщица Маруся, роковая и обречённая женщина, и княгиня Вера Петровна Ятаева олицетворяют два варианта русской души, два её крайних полюса. Маруся-эмигрантка губит себя и своих близких, а «Верочка» возвращается в Россию, чтобы там бороться за восстановление царского режима — чем заслуживает уважение повествователя.
34Герой повести «Восточный Экспресс», русский князь Димитрий Кутушев, ещё до революции покинувший Россию, пытается освободиться от своей русскости, отказывается от всяких икон и самоваров. Но нельзя отказаться от самого себя, «вывернуться на изнанку»: « Принято говорить о «советском аде», но это пустяки, это ничего, по сравнению с адом, населяющим душу каждого русского». Не зря свою «Верочку» посвятил Карко писателю-националисту Морису Барресу. Карко близок к таким «писателям-космополитам», как Валери Ларбо, Жозеф Кессель, Блез Сендрар, Поль Моран. За исключением В. Ларбо, они связаны с Россией, знают её язык и литературу, и скорее отрицательно относятся к советскому режиму. Однако космополитизм западного писателя-путешественника легко сочетается с неприязнью к чужеземцам, нахлынувшим во Францию. Эта черта характерна для Поля Морана, автора «триптиха» из трёх русских повестей, где доминирует утрированный антисоветский шарж.
4. 2. Загадка русской души
35На парижской сцене с неизменным успехом идут две бульварные комедии, « Великая княгиня и гостиничный слуга » (1924) Альфреда Савуара и « Товарищ » (1933) Жака Деваля, где положение русских беженцев сдужит предлогом для изображения совершенно невероятных, но смешных, перипетий, и высмеиваются аристократические привычки и причуды « белых русских ». Так, во второй пьесе, генерал Уратьев и его жена, ради любви к России, вручают советскому комиссару деньги, отданные им на хранение царём.
36Добавим, что почти одновременно вышло три книги с одинаковым подзаголовком: «роман русской эмиграции». Это — «Остатки белых армий» (1924) Сержа де Шессена, «Ники», Жана Виньо, и «Вдали от икон» Этьена Бюрнета, заведующего Институтом Пастером в Тунисе и знакомящего нас с тяжёлой долью русских, осевших в Бизерте. Назовём ещё несколько объективных, тщательно документированных исследований, откуда беллетристы могли черпать сведения для своих «русских романов»: «Русская эмиграция во Франции» (1929) Шарля Ледре, «Россия в изгнании» Жана Деляжа и «Русские во Франции» (1937) — эссе Андрея Беклера.
37Итак, за исключением нескольких полудокументальных книг, в массовой продукции на русские темы доминирует упрощенное, порой совершенно искажённое представление о жизни русских эмигрантов. Отдаётся предпочтение описанию «парижского дна», кабацкому разгулу, где на первом плане «нищие белогдардейцы», «русские князя-таксисты» и «бывшие княгини». Судьба рабочих на заводе Рено или Ситроен, «Биянкурские будни», вообще реальная жизнь русской общины не интересует любителей сильных эмоций и фантастических приключений. От «экзотического романа» на русские темы Анри Гревиля до приключенческих романов Пьера Бенуа или произведений Жозефа Кесселя, Пьера Мак-Орлана, Поля Морана и мн. др., наблюдаются те же вариации на тему «непредсказуемой русской души», создаётся комплекс представлений, образующий «русский миф».
4. 3. Несостоявшийся диалог : русские и французские собратья по перу
38Можно было ожидать, что русские литераторы, проживающие во Франции, окажут некоторое влияние на французских собратьев, но этого не случилось, несмотря на личные знакомства и такие инициативы, как Франко-русские собеседования (1929-1931) и встречи, организованные «Числами». Об этом несостоявшемся диалоге красноречиво свидетельствует, например Н. Дашков (Владимир Вейдле). Отметив, что русские классики, и в особенности Достоевский, оказывают значительное влияние на французскую литературу, он замечает, что «за немногими исключениями, как раз лучшие из современных русских писателей не переведены на французский язык, а иногда неизвестны французам даже по имени. В качестве образцов современной русской литературы переводились и продолжают переводиться второстепенные произведения третьестепенных (а то и ниже) советских авторовviii», недоумевает Владимир Вейдле.
39 Всеволод Фохт, организатор Франко-русских собеседований, советует своим французским собратьям обратиться к произведениям Ивана Бунина, Бориса Зайцева, Надежды Теффи, Марины Цветаевой, Галины Кузнецовой, Надежды Городецкой, Гайто Газданова. Как это ни парадоксально, именно в тот период, когда младшее поколение училось у Пруста и ставило себе целью создание новой эмигрантской литературы, свободной от устаревших канонов, многие французские писатели искали вдохновения именно у русских классиков. Другие же обращались к произведениям советских писателей, которые охотно переводились и публиковались, в надежде найти у них новую животворность и жизнерадостность.
5. Прававерные паломники и «кающиеся» странники
5. 1. В стране чудес
40После установления власти советов, неожиданным образом возродился несколько устаревший жанр «путешествия по земле русской». В многочисленных путевых заметках, дневниковых записях, рецензиях те, кому удалось побывать на «земле обетованной» повествуют о своих впечатлениях и восторгах. В большинстве своём это писатели или журналисты левого толка, попутчики нового режима, готовые воспеть те достижения, которые им демонстрируют в «потёмкинских деревушках» новой эры. Среди них — Люк Дюртен, автор книги «Другая Европа — Москва и её вера» (1928) и Жорж Дюамель («Путешествие в Москву», 1927). Их обоих в своих мемуарах одобряет Эренбург: «Дюамель и Дюртен, побывав в Москве, написали о своей поездке книги умные, миролюбивые, даже, как теперь говорят, «прогрессивныеix».
41Но иногда взгляд «очарованного странника» вдруг проникает в зазеркалье, где ему открывается страшная реальность, что случилось, как известно, с Андре Жидом. Ужаснувшись, верный друг Панаит Истрати, «балканский Горький», вложил крик души в книгу очерков «К другому огню: исповедь проигравшего», заслужившую следующую оценку Эренбурга:
Книга, посвящённая поездке в Советский Союз, никак не напоминала книги Истрати, говорили, будто её написал кто-то другой. Не знаю, правда ли это. Может быть, сказалось вечное легкомыслие Истрати. Пилигрим рассердился: реальность не походила на созданную им восточную сказку. Его тотчас окружили журналисты, политиканы, фракционеры; он не успел опомниться, как стал игральной картой на зелёном сукнеx.
42Порой наблюдается обратное чудо: скептик, колеблющаяся личность, вдруг прозревает, признаёт свою ошибку и превращается в страстного проповедника новой веры. Вспомним жизненный путь Жан-Ришара Блока, члена социалистической партии, в изложении Татьяны Балашовой:
Тысяча девятьсот тридцать четвёртый год Блок считал переломным в своей биографии: он был гостем 1-го съезда советских писателей; давно увлекавшее его слово «социализм» наполнилось реальным содержанием. Вернувшись из Москвы в Париж, Блок печатает статью за статьёй, торопясь рассказать соотечственникам правду о Советской странеxi.
43Ещё в 1926-ом году Поль Ваян-Кутюрье поделился своими впечатлениями о «Месяце, проведённом в красной Москве. Вся правда о ‘большевицком аде’». Его перу принадлежит панегирик «Строители новой жизни», где есть такие фразы: «Кладбище отменено за ненадобностью. Для живых людей сооружены клубы, а для мертвецов — крематории». Однако на поприще активной пропаганды процессов строительства в СССР на первом месте стоит Анри Барбюс, автор документальной книги «Россия» (1930).
44Назовём ещё несколько произведений среди многих, написанных страстными «верующими»: Ромен Роллан, «Поездка в Москву» (1935), Клод Гомпел, «СССР, страна молодёжи» (1937)… Но экскурсия в страну реализованной утопии могла окончиться трагически. Напомним, что писатель Раймон Лефевр, один из первых интеллигентов-коммунистов во Франции, «соратник Анри Барбюса и Поля Ваяна-Кутюрье», в 1920 году «погиб, возвращаяь нелегально на родину из Советского Союза» — на самом деле, был ликвидирован из-за симпатий к левым социалистам.
45Весь этот массив книг способствует созданию мифа о стране советов и о новом человеке: сейчас читаются они, как сказка. Но утопию неизбежно сопровождает антиутопия….
5. 2. У Советов в аду
46С целью узнать всю правду о новом строе, в 1920 году в СССР отправляется журналист Альбер Лондр: в «России советов» он свидетельствует о тяжёлой жизни народа и описывает недостатки режима. Годом спустя, Серж де Шессен повествует о «русском апокалипсисе». После неудавшейся попытки проникнуть нелегально в СССР, Жозеф Кессель проводит некоторое время в Риге в поисках информации о голоде в России. Этот материал лёг в основу газетных статей и сборника рассказов «Красная степь» (1922 г.). Романист и репортер Анри Беро составил занимательный, очень талантливый, порой даже поэтичный отчёт о Москве периода НЭПа. А Поль Моран очень остроумно и забавно издевается над новой советской интеллигенцией, представленной в повести «Поджигаю Москву» (1925 г.) любовным треугольником Маяковский-Осип и Лиля Брики.
47Многих путешественников с Запада, в том числе и Андре Жида, отталкивает вездесущая пропаганда, стандардизация быта, отсутствие свободы, не говоря уже о терроре и репрессиях, о которых мало кому дано узнать. В 1936 году Луи-Фердинан Селин привозит из Москвы свой злой пасквиль, «MeaCulpa», а в 1938 году Клебер Лежэ окончательно развенчивает миф о «райской жизни трудящихся» своим свидетельством : «Французский шахтёр у русских».
48Ад или рай? Редко встречается объективное рассмотрение истинной природы нового режима. Этого достиг экономист Виктор Борэ, озаглавивший свой труд — «Инфернальный рай – Москва, 1933 год».
49Итак, в межвоенный период образовался целый поток антиутопий, очень разных по содержанию и таланту, но которые все свидетельствуют о разрыве между мифом, созданным пропагандой, и реальностью, описанной через призму личного восприятия. Рассказы очевидцев, как энтузиастов, так и хулителей, ставят интересный вопрос о взаимопроникновении реальности и фабулы, о литературной «обработке» очеркового материала.
506. Соцреализм на французский лад
6. 1. Приключения и злоключения реализма
51Реалистические традиции, еще живучие во Франции в начале ХХ века, воплотились в творчестве таких писателей, выходцев из крестьянской или пролетарской среды, как Эмиль Гийомен («Жизнь простого человека»), портнихи Маргерит Оду («Мари-Клер») и в особенности швейцарца Шарля-Фердинанда Рамюза. После первой мировой войны, многие из будущих литераторов сближаются с социалистически настроенными кругами. Анри Барбюс, член ФКП с 1923 года, пишет свои «Правдивые повести», документальную книгу «Россия» (1930) и кончает свой век откровенно апологетическим сочинением, «Сталин» (1935). Книга вышла год спустя в русском переводе со следующим подзаголовком: «Человек, через которого раскрывается новый мир», но французский вариант звучит как перевод с русского, что ставит вопрос о возможном активном сотрудничестве с «редактором» или, по крайней мере, о своеобразной корректуре. Некоторые тексты, несомненно, написаны по заказу.
52 О «родоначальнике социалистического реализма во Франции, провидце Анри Барбюсе» чета Балашовых пишет ещё в 1973 году: «Сопоставление новелл раннего Барбюса с его ‘Правдивыми повестями’ позволяет увидеть эволюцию художника от абстрактного гуманизма к гуманизму пролетарскому, от поэтики критического реализма к эстетике реализма социалистическогоxii». Кому же ещё из французских писателей удалось «дорасти до эстетике соцреализма»? В новелле «Бал слепых» Поль Вайян-Кутюрье прокладывает свой путь к созидателям нового мира, и вслед за ним Ромен Роллан в поздних своих произведениях — в романе «Очарованная душа» (1921-1933), очерке «Ленин. Искусство и действие» (1934), драме «Робеспьер»» (1939).
53Многие сочувствующие и попутчики так и остались на полпути, не решившись отказаться от самих себя. «Органическая народность французской литературы ХХ века, – пишут Балашовы, – обретала своё классическое выражение в «Кола Брюньоне» Ромена Роллана, «Огне» Барбюса, «Детстве» Вайяна-Кутюрье и «Коммунистах» Арагона». Шеститомник «Коммунистов» начинается с оправдания русского-немецкого договора. Именно в этой эпопее, входящей в серию «Реальный мир», автор столь ценимого Поплавским «Парижского крестьянина», подчиняясь «социальному заказу», попытался применить те принципы, которые изложил в манифесте «За социалистический реализм», — содержащий, кстати, довольно гнусные нападки на сюрреализм. К счастью для читателей, в «Базельских колоколах» и «Богатых кварталах» писатель ещё сохранял свою творческую свободу, и в них пульсирует жизнь.
6. 2. Революционный или пролетарский писатель?
54«Ассоциация революционных писателей и художников», созданная ФКП в 1932 году, отмежевалась как от писателей-популистов группы Леона Лемонье, так и от «Группы франко-язычных пролетарских писателей» во главе с Анри Пуляем. Теоретик «пролетарской школы» — личность незаурядная. Это французский Максим Горький: осиротев в 14 лет (о чём расскажет позже в автобиографии), автор известной книги «Хлеб насущный», Пуляй боролся за литературу, созданную выходцами из народа для читателя из народной среды. Он сумел собрать вокруг себя таких писателей, как Эжен Даби, Жан Гээно, Жан Жионо, Луи Гийю, автора романа «Чёрная кровь», где, кстати, описывается игра «в русский роман». Работая впоследствии в издательстве Грассе, Пуляй издавал произведения Анри Барбюса, Блеза Сендрара, Панаит Истрати, Жана Жионо и др. Писатели этого круга отказывались от подчинения компартии и отстаивали независимость литературы. Пуляй и его друзья были близки к левым социалистам и анархистам. Сам Пуляй выступал за освобождения Виктора Сержа (Кибальчича), чем вызвал яростные нападения ФКП и полный с ней разрыв.
55Подчерrнём, что пролетарские писатели оставили след в литературе и нашли своего продолжателя в Мишеле Рагоне, авторе романа-эпопее «Память побеждённых», где восстанавливается история движения левых социалистов и анархистов во Франции, их несогласий с «родиной социализма»; главную роль, под вымышленным именем, играет Анри Пуляй.
7. Заключение
56Что же принесли французской литературе эти многочисленные упражнения «на русскую тему»? Во-первых, помогли выйти из тупика, созданного кризисом романа; способствовали обновлению устаревшего романа «на экзотическую тему» и расцвету публицистической прозы ; пробудили интерес к детской литературе и историческому роману; открыли неисчерпаемый кладезь новых тем и размышлений; подарили новых героев и в особенности героинь, о которых можно сказать словами Бальзака о Феодоре в «Шагреневой коже»: « это не женщина — это роман».
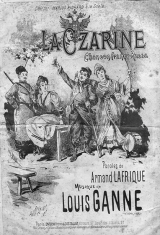
La Czarine: chanson célébrant l'Alliance franco-russe
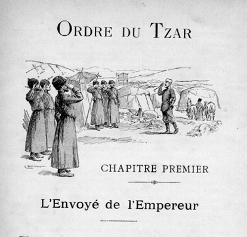
Ordre du Tsar, roman du Capitaine Danrit, non daté (fin 19e).

Exposition 1900:Le Transsibérien et la Tour Eiffel
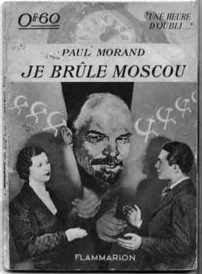
Couverture du livre de Paul Morand, Je brûle Moscou, Paris, Flammarion, collection « Une heure d’oubli… », 1934, 61p., Nouvelle reprise de l’Europe galante, Grasset, 1925.
57Trois illustrations proposées par H.M.
Bibliographie
Anet, Claude La Révolution russe de mars 1917 à juin 1918, 4 vol.(Paris : Payot, 1917-1919)
Anet, Claude, Ariane, jeune fille russe, 1ère éd. La Sirène, 1920, rééd. avec 29 bois originaux d’Angelina Beloff (Paris : Arthème Fayard, 1931)
Anet, Claude, Quand la terre trembla (Paris : l'Illustration, 1921)
Anet, Claude, La Fin d'un monde (Paris : Bernard Grasset, 1925).
Benoit, Pierre, Le soleil de minuit, (Paris : Albin Michel, 1930).
Bibesco, Princesse, Le Perroquet vert, 1ère éd.1924. (Paris : Le Livre de demain/Arthème Fayard, 1928)
Botchareva, Maria (Léontievna), Yashka. Ma vie de paysanne, d’exilée, de soldat, trad. Marcel Prévost (Paris : Plon, 1923)
Burnet, Étienne, Loin des icônes, Roman des émigrés russes (Paris : Ernest Flammarion, 1923)
Bove Emmanuel Un Raskolnikoff (1932).
Cendrars, Blaise, Moravagine (Paris ; Club des Amis du Livre, 1962)
Chessin, Serge de, La Révolution russe. I. Au pays de la démence rouge (1917-1918) – II. L’Apocalypse russe (1919-1920) (Paris : Plon, 1921)
Delage, Jean, La Russie en exil (Paris : Librairie Delagrave, 1930)
Delteil, Joseph, Sur le Fleuve Amour, 1ère éd. 1923, rééd (Paris : Le Livre de Poche, 1971)
Deval Jacques, Tovaritch (pièce) (1934)
Douillet, Joseph, Moscou sans voiles (Neuf années de travail au pays des Soviets), (Paris : Spes, 1928)
Doré, Gustave, Histoire de la Sainte Russie, 1ère éd.1854 (Paris : Henri Veyrier, 1974)
Hergé, Tintin au pays des Soviets 1929-1930, in Archives Hergé (Paris : Casterman, 1973)
Imann, Georges, La Russe (Paris : La Nouvelle Société d’Édition, 1929)
Kazansky, Konstantin, Cabaret russe, (Paris : Olivier Orban, 1978)
Kessel, Joseph, Nuits de princes, 1ère éd. 1927, rééd. avec préface, documents et bibliographie de Francis Lacassin (Paris : 10/18, 1988)
Kessel, Joseph, Nuits de Montmartre (Paris : Les Éditions de France, 1932)
Kessel, Joseph, Stavisky, L’homme que j’ai connu (Paris : NRF/Gallimard, 1934)
Ledré, Charles, Les émigrés russes en France (Paris : Spes, 1930)
Morand, Paul, 1900 (Paris : Les Éditions de France, 1931)
Paléologue, Maurice, Le crépuscule des tsars : Journal (1914-1917) (Paris : Le Livre de Poche)
Robel, Léon, Histoire de la Neige, La Russie dans la littérature française, coll. Bèves (Paris, Hatier, 1994)
Savinkov, Boris, Ce qui ne fut pas, trad. J. W. Bienstock (Paris : Payot, 1921)
Stahl P.J., Maroussia, Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, s.d. (vers 1880)
Tissot, Victor, La Russie et les Russes. Kiev et Moscou (Paris : Plon, 1884)
Verne, Jules, Michel Strogoff (Paris : J. Hetzel et Cie, 1876)
Vignaud, Jean, Nicky. Roman de l’émigration russe (Paris : 1922)
Vogüé, Melchior de, Les Morts qui parlent, scènes de la vie parlementaire, (Paris : Plon, 1899)
Vogüé, Melchior de, Le Roman Russe (Paris : 1886)
Youssoupov, Félix, La fin de Raspoutine (Paris : Plon, 1928)
Notes
Notes de bas de page littérales :
i Перевод с французского П. Бурова, интернет-ресурс.
ii Александр Салтыков, « По поводу ‘Встреч’», Le Studio Franco-Russe 1929-1931, textes réunis et présentés par Leonid Livak, réd. Gervaise Tassis, Toronto Slavic Library, 2005, p. 568.
iii Юрий Фельзен, «Парижские встречи русских и французских писателей», там же, с. 574.
iv Жан Ришар Блок», Французская новелла ХХ века 1900-1939, пер. с французского, М., худ. лит., 1973, с.331.
v Цит. в: « По поводу ‘Встреч’ », там же, с. 569.
vi Натали Саррот, От Достоевского до Кафки, пер. с фр. Ю. Розенберг, публикуется по изданию: Натали Саррот. Тропизмы. Эра подозрения. Москва, Полиформ-Талбурн, 2000. Интернет-ресурс.
vii Илья Эренбург, Люди, Годы, Жизнь, Т.8, М., изд. «Художественная литература», 1966, с.66.
viii Н. Дашков (Владимир Вейдле), « Об одной попытке франко-русского сближения », LeStudioFranco-Russe 1929-1931, Там же, с.561.
ix Илья Эренбург, Люди, Годы, Жизнь, Т.8, там же, с. 517.
x Илья Эренбург, там же, с. 544.
xi Жан Ришар Блок», Французская новелла ХХ века 1900-1939, там же, с.331.
xii Французская новелла ХХ века 1900-1939, От составителей Б. и Т. Балашовых, с.5.